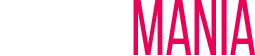Художественная вольность
- Переводчик: Grey Kite aka R.L.
- Бета: Альре Сноу, Forion
- Оригинал: beardsley, "artistic licence", запрос на перевод отправлен
- Размер: мини, 1328 слов в оригинале
- Пейринг/Персонажи: Химэмия Анфи/Тэндзё Утэна
- Категория: фемслэш
- Жанр: драма/ангст
- Рейтинг: R
- Краткое содержание: У неё в душе музыка — но только Утэна способна дать ей душу.
- Примечание/Предупреждения: AU про секс, наркотики и рок-группы
У нее в душе — музыка (или что это?): пульсирующий натиск, рвущийся сквозь легкие Анфи и вырывающийся из горла. Рёв крови в ушах, низкое раскатистое рычание — когда Анфи выкрикивает слова, обретающие для нее смысл, только если она закроет глаза и не будет слишком задумываться, не будет подвергать их сомнению. У нее в душе — музыка, и душа ее голодна.
Она — воспитаннейшая девушка, какую вы только можете встретить: глаза опущены в пол, губы растянуты в тонкой улыбке, которая и не улыбка вовсе; такая кроткая — можно пройти мимо и не заметить, что она вонзила нож между ваших рёбер, пока вы не истечете кровью в каком-нибудь переулке, удивляясь, почему, как и что.
(Это опыт ей подсказывает? Анфи понятия не имеет. Убила ли она кого-нибудь в своей жизни, или это просто художественная вольность? Быть может, она знает, каково это — плавно вдвинуть нож в чью-то чужую плоть; знает, каково это — когда темная, горячая кровь сочится сквозь пальцы. Быть может, нет — быть может, это лишь выдумка; девчонки вроде нее всё время что-то выдумывают. Не так ли? Она поэт; она дышит ложью).
Ее душа голодна, но чем утолить голод — ей невдомёк, да и не важно; ее брат, единственный брат будет нашептывать ей на ухо, чтобы утишить яростный ураган, который оставляет ее в туалетной кабинке после концерта, дрожащую и блюющую собственными кишками. Она голодна; он даёт ей то, что ей нужно. Она настолько голодна, что даже не чувствует, как игла скользит в ее руку — сквозь тонкую кожу на внутренней стороне локтевого сгиба. Когда она замечает, становится уже слишком поздно: мир отдаляется на расстояние одного-двух шагов. У Анфи пересыхает в горле — когда она хочет позвать брата, изо рта вырывается разве что тихий хрип.
(Как зовут ее брата? Она понятия не имеет. Помнит ли она, как росла с ним вместе, играя с ним и позволяя играть с собой, словно с маленькой, послушной и пустоглазой куклой, или это просто художественная вольность? Быть может, она знает, каково это — когда сердце вырвано, а пустота в груди засыпана стеклянным крошевом, скребущим по внутренней стороне ребер. Быть может, нет — быть может, брат тоже выдумка, в то время как Анфи сама держала иглу).
Вышибала помогает Анфи выбраться из уборной — разве не здорово, что забегаловка, где играет ее группа, может позволить себе вышибалу? Мужчина избегает смотреть ей в глаза, и Анфи понимает — она в двух шагах от реальности, но всё-таки понимает, — что он её лапает. Не слишком нагло — он по-хозяйски стискивает ее бедро, и только; возможно, ему слишком противно, чтобы решиться на большее, — противны грязная блузка Анфи, ее налитые кровью глаза и липкая кожа. Возможно, он боится что-то от нее подцепить.
Люди боятся ее — те, кто вообще ее замечает. Она рождает в них неуютное чувство, застаёт их врасплох. Она — девчонка в подземке, забравшаяся на сидение с ногами и уткнувшаяся лбом в колени; она — девчонка, которая спит в задней части вагона, подложив под голову футляр для гитары. Летом она — девчонка, не утруждающая себя тем, чтобы прятать сгибы локтей под длинными рукавами. Зимой она спит.
***
У нее в душе — музыка, только Анфи не думает, что у нее есть душа.
В следующий раз — всегда бывает следующий раз — кто-то кладет ладонь на ее затылок. Кто-то отводит назад ее волосы, когда она сотрясается от рвоты. Ее брат, единственный брат, никогда так не делал: он только даёт ей то, что ей нужно.
Когда Анфи поднимает взгляд, то видит не брата и не вышибалу, и даже не одного из мужчин, порой помогающих ей подняться, пахнущих несвежим пивом и потом. Анфи видит девушку не старше себя, которая так глядит на неё, словно она — лесной пожар или остатки неудавшейся революции со дна треснутого кувшина.
Девушка задает ей вопрос; Анфи отвечает, хотя не уверена, что ей удаётся чётко выговорить хоть слово.
Эта девушка, чьё имя напоминает Анфи о белых розах и обо всех возможностях, которых никогда не было и не будет у нее в жизни, приводит ее домой. К себе домой, а не к Анфи — поскольку та не уверена, есть ли у нее что-нибудь вроде дома, точно так же, как и душа. Должно быть, есть место, куда она возвращается, где она ест и спит, где проводит зиму, свернувшись среди шерстяных платьев и бархатистой моли.
Эта девушка, чьи блестящие волосы так мягки под пальцами Анфи, пробуждает в ней желание чувствовать. Она, должно быть, была способна на чувства — когда-то давно, — но уже не помнит, каково это. Быть может, это лишь выдумка. Вечно она выдумывает.
Эту девушку зовут Утэной, и она приносит искупление. Она — революция, на которую Анфи никогда бы не решилась одна, и она — пульсация, рвущаяся сквозь горло Анфи, и Анфи знает с уверенностью, рождённой из неудач: Утэна существует лишь у нее в голове. Не бывает таких девушек, как Утэна; ни одна девушка не может быть настолько заботливой — по крайней мере, по отношению к Анфи.
Анфи — не из тех, о ком заботятся, даже те, кто замечает ее и кого она не пугает.
(Заботился ли кто-то о ней? Анфи понятия не имеет. Если бы хоть кто-то знал её по имени, разве она не удержала бы этого «кого-то»? Быть может, она знает, каково это — скользить языком по внутренней стороне чьих-то бедер, склоняться над другой девушкой, обхватывать ладонями ее груди, целовать ее — и желать ответных поцелуев. Быть может, нет — быть может, она выдумала и это).
Она — поэт: она лжёт. Она — лгунья.
И она хочет себе лгать.
***
Утэна даёт ей душу, и Анфи поёт, как не пела никогда раньше. Она больше не умирает с каждым кричащим словом, и лампы на краю сцены больше не ослепляют её. Но после этого она по-прежнему корчится в туалетной кабинке, и как бы ни старалась Утэна, не в ее власти встать против брата Анфи, единственного брата, и сказать: «Нет».
Но Анфи всё-таки берёт от неё, что может. Она вбирает те дни, когда люди в метро оглядываются, потому что в задней части вагона спит девушка, положив голову на колени к другой. Она вбирает те дни, когда Утэна орёт на нее, чтобы прекращала себя убивать — а она отвечает, что только это и умеет; она слишком долго была жива, и теперь просто хочет, чтобы ей позволили отдохнуть.
Она вбирает те ночи, когда Утэна ловит ее запястья и стискивает у неё над головой, отчего Анфи стонет громко и вслух, и это заставляет Утэну прижаться ближе; кожа скользит по коже — и жар между телами наводит Анфи на мысль, что даже кто-то вроде нее способен согреться. Она вбирает те ночи, когда Утэна останавливается, что бы ни проделывала в этот миг, поднимает на Анфи взгляд, хмурится и спрашивает: «И где ты была?» Нигде; везде; внутри собственной головы. Анфи — пускай она и поэт, а поэт дышит ложью, — всякий раз недостаёт слов для ответа на этот вопрос. Она вбирает те ночи, когда ей так сладостно — почти что невыносимо.
Она не хочет сохранять в памяти те ночи, когда музыка звучит слишком громко.
Они входят в клинику рука об руку; администратор смотрит сначала на Анфи, затем на Утэну. И что-то пробивается внутри Анфи — первыми отголосками освобождения, — ведь это значит, что Тэндзё Утэна — настоящая. Настоящие люди видят её; она точно настоящая.
(Точно ли? Анфи понятия не имеет. Понимала ли она хоть когда-нибудь, по каким законам существует реальный мир? Быть может, она прекрасно знает, что всё вокруг настоящее лишь настолько, насколько она позволит, — а, может быть, и не знает).
***
Не полагайтесь ни в чём из этого на ее слова. В конце концов, она ведь поэт; она всегда лжёт.
Автор: beardsley, переводчик: Grey Kite aka R.L.